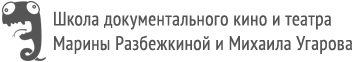Во время майской поездки в Казань Марина Разбежкина дала интервью корреспонденту журнала «Карл Фукс»:
— Мы хотели прогуляться с Вами по городу и попросить рассказать о примечательных, важных для Вас местах. Поскольку времени на это нет, могли бы их перечислить?
— Вы знаете, я, наверное, не самый подходящий человек для таких прогулок. Я вообще не живу прошлым, живу только настоящим. Мы вчера прошлись по Казани, по центру, и я не узнаю город. Он мне не нравится. Казань очень чистая, очень приличная. Это «чистенько, приличненько» — не лучшая характеристика для старого города с историей, которой фактически не осталось и которую заменили чудовищной архитектурой. По ней сразу же видно — ее сделали временщики. Для меня это новый город. Его не было предыдущую тысячу лет, которые он себе приписал. Город родился вчера. Условно говоря, это Набережные Челны. Только здесь больше финтифлюшек, претензий и амбиций. Я не жила в этом городе. Мне он неинтересен.
— С окраинами также? Я просто не знаю, где Вы жили.
— Я родилась в Соцгороде, потом в двенадцать лет мы переехали оттуда на улицу Восход. Это не самые интересные места. Помню раннее детство, но, если честно, у меня нет желания ехать туда. Я достаточно активно существую сейчас. У меня каждый день другая новая жизнь и она мне интереснее, чем старая. Я люблю, любила и, надеюсь, никогда не разочаруюсь в Волге. Эта река для меня значит больше, чем Казань. Волга — это моя Родина, она у меня отзывается чем-то. Казань сегодня ничем не отзывается.
— Вы, видимо, в детстве много времени проводили на Волге?
— Это было в Свияжске, на острове. Я теперь туда не езжу, хотя там прошли чудесные годы. То, что сегодня случилось со Свияжском, повторяет то, что случилось с Казанью. Сейчас это не мой остров, чужой мне. Слава Богу, Волга еще есть, берега есть, вода течет, и я очень надеюсь, что ей не перекроют горло, дыхание, и не назовут Волгой какой-нибудь искусственный ручей, который захотят потом огранить.
— Это четкая позиция — не цепляться за прошлое, отказываясь воспринимать настоящее?
— Понимаете в чем дело, это настоящее меня не устраивает. Не понимаю, почему оно должно быть именно таким. Сегодня мы ходили на улицу Тельмана — я не видела ничего чудовищнее домов на этом берегу Казанки. Ничего, нигде, ни в одной стране я не видела ничего чудовищнее. Я не знаю, откуда возникли такие архитектурные амбиции. Это не для будущего, всё картонное. Смотреть на это достаточно печально. Жизнь не может остановиться и существовать в старых формах, но если старые формы исчезают или их надо заменить, должно быть что-то, что будет жить какое-то длительное время. Есть львы в невероятном количестве. Какое у них происхождение? Почему они здесь появились?
— Мало кто понимает.
— На Багамах я видела усадьбу, в которой мы насчитали по периметру забора 160 львов, и внутри были такие же львы, уже в неизвестном количестве, — туда не было доступа. Это был замок местного наркобарона. На Тельмана, на берегу Казанки мы либо имеем дело с огромным количеством наркобаронов, или… я не знаю, с кем мы имеем дело. Архитектура очень внятно говорит о тех, кто ее создал, кто построил дома, и кто в них живет. Увиденное мною не говорит ничего. Эта архитектура не разговаривает. Она мертва. Она — покойник. Жизнь транслируется через архитектуру. На набережной Казанки между Кремлем и мостом «Миллениум» жизнь не транслируется. Я подозреваю, что люди, живущие в этих домах, не хотят ничего рассказывать про свою жизнь. Может быть, им нечего транслировать. Важен не только вербальный язык. Если эта архитектура чуть-чуть и разговаривает, то так, как разговаривают мертвые — этот шепот еле слышен из-под земли.
— А люди? Многие люди, которые пришли на Ваш кинопоказ в «Смену» — Ваши ровесники или люди помладше. Видно, что они не кино смотреть собрались, а именно с Вами пообщаться.
— Да. Со многими мы не виделись много лет. Например, женщина, с которой мы родились и жили в одном и том же подъезде. Она принесла фотографию, где нам по четыре года, мы примерно с этого возраста и не виделись. Ей просто хотелось со мной поздороваться.
— Вас часто хвалят ученики. У Вас нет ощущения, что Вы какой-то вседокументальный староста?
— Про «хвалят» — это как-то очень вольно. Вообще-то во время обучения они меня боятся. Вот когда уходят из школы, общение больше деловым и дружеским становится. Я человек очень жесткий и не подхожу на роль матери кинематографа. Я не люблю этих семейных ролевых игр в работе.
— Что Вы думаете по поводу разницы между поколениями?
— Зашоренность 20-летних настолько невероятна, что 80-летние иногда дадут им фору. Дело совсем не в возрасте, а в том, как человек конкретно проживает свою жизнь. Я вижу 20-летних, которые достигли своего потолка уже в 18 лет. Всё. С ними уже никогда ничего не произойдет. Иногда я встречаю 80-летних, с которыми все время что-то происходит, они живут в контексте современного мира. Количество штампов, которые носите в себе вы — я говорю не о конкретно вас, я говорю о людях вашего поколения — настолько невероятно, что это надо вытравлять дустом.
— Какие штампы самые распространенные?
— «Я хочу доброе кино». Еще стилистика разговоров. Мы в школе запрещаем цитировать. Вы не можете мне процитировать что-то в порядке доказательства, потому что любая цитата — не ваша личная речь и не ваша личная мысль. Лучше вы бекайте-мекайте, но говорите своими словами. Можете матом говорить — мат разрешен. Запрещен только культурный текст, который принадлежит не вам. Мы сразу же чистим этот текст из речи.
В итоге, мы получаем людей, которые спустя год после учебы в нашей школе начинают прекрасно писать, совершенно индивидуально, начинают обретать свой язык. Речью мы занимаемся, потому что она не только вербальна. Речь работает и на визуальном уровне. Мы стараемся, чтобы человек обрел свой язык. Мальчик, который на экзамене мне говорит: «Мы в ответе за тех, кого приручили», не поступает стопроцентно.
— Документальное кино называют… Ладно, я называю…
— Давайте… Вот уже испугались. Как Вы называете?
— Прибежище… Просто я не использую это слово. Прибежище… Даже не я, а… В общем, в СМИ не так много правдивого осталось. В документальном кино правдивого много… Как Вы относитесь к этой ситуации?
— Я не поняла про ситуацию. Что за ситуация?
— На телевидении правдивого и жизненного как было мало, так и остается мало. В газетах то же самое, интернет чистят. В художественном кино тоже практически нет жизни. С другой стороны, есть документальное кино, которое максимально сильно отражает жизнь. Из-за этого появился подчеркнутый интерес к документальному кино. Происходит его ренессанс в какой-то мере. По-вашему, это так?
— Я не очень люблю говорить на эту тему. Все эти ренессансы — не ренессансы, прогнозы — не прогнозы, все это — мура невероятная. Слишком много обстоятельств, из-за которых кино либо вызывает интерес, либо нет. Люди не готовы смотреть документальное кино, потому что многие его никогда не видели, НИ-КО-ГДА. Причем речь идет и о необразованных людях, и об образованных. Чтобы смотреть документальное кино, как выясняется, нужна определенная способность не просто смотреть, но и видеть, быть любопытным. Ты можешь иметь три высших образования и должность профессора какого-то университета, но это совершенно не гарантирует, что ты сможешь понять даже самое простое документальное кино. Мне кажется, что вопрос у Вас не очень внятный получился.
— Согласен.
— Я все равно не понимаю, о чем Вы хотите спросить. Лично Вам, а не читателю что-нибудь интересно?
— Давайте переформулирую, и вопрос будет более…
— Можно я Вас спрошу?
— Конечно.
— Вы какие документальные фильмы любите?
— Я немного смотрел. «Ленинленд» Курова мне понравился, «Таню пятую» Кубасова смотрел.
— Просто спросите, что Вас интересует? Не моя задача погружаться в одиночку туда, куда погрузиться вместе мы не можем. Погружаться буду я, а Вы будете на поверхности водить этой удочкой и думать, клюну я или не клюну. А я рыба старая и на любую удочку не клюю.
— Извините, я рыбацких метафор не понимаю. Не могли бы по-другому объяснить.
— Мы плаваем с Вами на разной глубине и в разных водоемах, скажем так. Какой нам смысл тогда говорить о том, чем я живу, а Вы не живете этим совсем?
— У меня ведь есть об этом какое-то представление…
— Вы ведь документального кино не смотрите, соответственно, Вы его не знаете.
— Давайте тогда о другом. Можно ли представить ситуацию, при которой через пять лет документальный фильм будет идти в России в широком прокате?
— Не знаю. Я не волшебница и не даю прогнозы. Может быть, через пять лет не будет России. Может быть, через пять лет не будет документального кино. Я не знаю.
— К вам ведь приходят учиться, уже имея какие-то темы для будущих фильмов?
— Допустим, к нам приходит девочка и говорит: «Я хочу снять фильм про тяжелое положение интеллигенции в России». Мы ее спрашиваем на экзамене: «У тебя родители интеллигенты? У них тяжелое положение?» Она отвечает: «Да. Но у них все хорошо, а вот у интеллигенции в России положение тяжелое». С такими абстрактными темами нельзя в режиссуру приходить, особенно когда, как ты думаешь, у тебя все хорошо в жизни. Одно из первых школьных заданий называется «Отчаяние». Надо передать отчаяние человека. Притом что человек в таком состоянии не рвет на себе волосы, как в плохом театре. Никто не может выполнить работу, все рассказывают примерно одинаковые истории. Одна девочка смогла — сняла двух своих друзей: от одного ушла жена, у другого с работой не ладилось. Я посмотрела материал и увидела отчаяние, мне стало страшно за героев, хотя вроде бы ситуации обычные — с каждым может случиться. Через некоторое время оба умирают от проблем с сердцем, обоим по 35 или 36 лет. Она смогла увидеть что-то в обыденной ситуации. Мужчина говорил: «От меня ушла жена, не разрешает видеться с ребенком». Господи, тысячу раз у всех ушла жена и не разрешает видеться с ребенком. Кто-то, правда, всю жизнь с этим проживет, а кто-то через полгода умрет от больного сердца, потому что это крах всей жизни. Наша студентка так сняла, что я увидела это в 7-минутном этюде, студенты тоже увидели. Вот здесь начинается режиссура.
— Во сколько лет Вы уехали из Казани?
— Мне было больше сорока лет.
— Вас не пытались отговорить?
— Никто не отговаривал. Мне просто дался переезд — я достаточно легко отношусь к жизни. У меня долго не было места для ночлега, каждый день я выходила на улицу с зубной щеткой, ставя себе простую задачу — найти место для сна. Для многих моих ровесников подобная ситуация в 40-45 лет — полная трагедия, ты должен быть упакован полностью. Самое главное для человека, я считаю, это угадать собственный ритм жизни, вне зависимости от того, публичной жизнью вы живете или нет, спокойной или нет. Как только ты начинаешь жить чужой жизнью, сразу же начинается драма: человек не встретился с собственной жизнью. Я со своей встретилась и сделала все, чтобы не произошло обратного.
— Как противостоять нынешнему закручиванию гаек? Прежде всего, про информационную среду спрашиваю.
— Противостоять — это существовать внутри собственной свободы и не подчиняться чужому контролю. Мы, например, как снимали фильмы с матом, так и будем снимать. Нас и так по телевизору не показывают. Вокруг человека сегодня хотят выстроить очень простую черно-белую конструкцию, но и человек сложен, и жизнь — это не самое легкое испытание. Внутри нее очень много градаций. А разделение на черное и белое, хорошее и плохое, Бог и дьявол — это все для очень простой жизни. Я простой жизни не хочу, я хочу в сложную жизнь. Поэтому снимать сложное кино про сложную жизнь — это наш уровень сопротивления.
— Татарстан — стал спортивной столицей, третьей столицей, еще какой-то, возможно. Может ли город стать культурной столицей, например, Поволжья?
— Вам тут никто не поможет. Надо самостоятельно заниматься культурой, своими проектами. Правительство и государство существует для другого. Для чего — они сами еще не сформулировали. Но не для культуры точно. Вот то, что в Казани эчпочмаки стали плохо делать — вот это падение и культурное, и государственное. Я ела их в пяти местах, и, как ни странно, лучшие были в «Бехетле». Культура — это ведь не только кино или театр. «Треугольники» — это и есть бытовая культура, от которой очень многое зависит. Как только люди начнут понимать, что надо печь хорошие эчпочмаки, и ситуация с современным искусством станет лучше.
Алексей Сорокин, журнал «Карл Фукс», 27.06.2014. Фото — Кэт Огуречкина