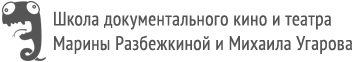Марина Разбежкина рассказала корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» о своих студентах, о России и о том, почему в Америке ее фильмы пока не очень известны
НЬЮ-ЙОРК – Марина Разбежкина – один из самых уважаемых документалистов в России. Ее режиссерский голос ни с чьим не перепутаешь – взгляд на жизнь человека с очень близкого расстояния, способность показать суть повседневной жизни и увидеть в ней грандиозную, чарующую эстетику. Ученики Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной снимают кино по всему миру, их работы ждут на международных фестивалях.
Марина Разбежкина проводит в субботу 26 марта мастер-класс в Нью-Йорке в Бруклинской библиотеке, а потом в течение нескольких недель в Нью-Йорке будет показывать фильмы своих учеников. Она рассказала корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» о своих учениках и о той российской жизни, которую они снимают.
Виктория Купчинецкая: Марина, на ваш мастер-класс в Бруклинской библиотеке и на показы фильмов ваших учеников придут самые разные люди – в том числе американцы, иммигранты, некоторые понятия не имеют, кто вы такая, никогда не слышали вашего имени, не знают о вашей школе документалистики. Почему этим людям то, что вы покажете и расскажете, может быть интересно?
Марина Разбежкина: Потому что они увидят что-то такое, чего не видели никогда. Настоящую русскую жизнь, не политическую русскую жизнь, просто жизнь людей в России, очень близкую, потому что у нас очень близкие камеры, мы очень близко подходим к человеку и знаем, как не разрушить его пространство. Русская культура практически не занималась горизонтальным пространством человеческой жизни, она занималась в основном вертикальным его пространством. Позициями добра и зла, бога-дьявола. А мы занимаемся реальным человеком и реальным его пространством. Нас интересует, что человек есть, что он пьет, как он разговаривает с женой, как он выходит из дома. Вот эти мелкие вещи, которые нас всех создают, – мы их снимаем. Мне кажется, что везде прошел век вертикального кино. Художник больше не мессия, он такой же человек, как все остальные, только с другим умением – видеть зорче, чем все остальные. Сегодня было бы даже неловко быть на месте мессии.
В.К.: Но о чем могут говорить или свидетельствовать эти мелкие, «горизонтальные» детали и подробности жизни человека? Вам важен контекст этой жизни?
М.Р.: Контекст должен прочитываться, несомненно. В фильме «Оптическая ось» я снимала, как 80-летний старик делает ложку – он делал ее 8 минут, и 8 минут мы его показываем. И я очень много читаю в этом движении. То, что он делает, очень похоже на то, что делал Микеланджело. Это умение дает этому человеку возможность оставаться в контексте какого-то времени. У старика так развита рука, что мозг развит вместе с рукой. Это та самая мелкая моторика, которая имеет отношение к тому, как мы мыслим и как мы выражаем свои ощущения. Эта ложка – почти центр мира. Это его умение, которое осталось только у него в этой деревне. Он незлоблив, он не агрессивен, он не имеет никаких претензий к времени, в котором он живет. Он через себя соединил прошлое и будущее.
В.К.: А эта «близость» с героем что-то говорит нам о социуме, о том обществе, в котором живет этот человек, о состоянии этого общества? Или вам про состояние общества рассказать и показать не так важно?
М.Р.: Да, намного менее важно, иногда вообще не важно. Мне вообще интересны люди, которые живут как бы на острове. Социальный остров, психологический остров или реальный остров – какой угодно. Мне интересно, как человек может сам справляться с жизнью – без помощи или без агрессии внешнего пространства. Что с ним происходит, когда он остается один на один с этой жизнью. Мне важен человек и очень мало важно все остальное. Ну, это моя тема, а другие будут говорить о другом.
В.К.: Ваша документалистика, это стремление показать «горизонтальную жизнь» человека – оно востребовано сегодня в России, в современном российском культурном и социальном пространстве?
М.Р.: Вопрос о востребованности того или иного искусства сегодня достаточно лукав. Потому что общество настолько разнородно, что каждый находит свою нишу. У нас есть своя ниша, мне она нравится. И она не только в Москве или в городах – мы можем приехать со своими фильмами куда-то в глубинку. Был очень интересный опыт, когда наши фильмы поехали по маленьким сибирским городкам, где обычно не бывает никаких гостей. В основном на показы приходили учителя со старшеклассниками. Старшеклассники смотрели хорошо – а учителям не хватало культуры – как они ее понимают. То есть у старшеклассников оказалось намного меньше штампов, чем у тех, кто их учит. Наш социум наполнен такими твердыми моделями сознания, которые ничего не рассказывают о современном мире, но которые все рассказывают об учителях и контекстах, в которых вырос молодой человек или девушка. Очень важно поддержать их, вытащить их из этого старого представления о мире.
В.К.: Эти «твердые модели сознания» – это специфическое российское явление? Или интернациональное?
М.Р.: Я думаю, что это есть в абсолютно любой стране, просто имеет свои особенности. Ну, конечно, сознание людей абсолютно замусорено социумом. Когда я вижу 18 или 20-летнего человека, который излагает свои мысли приблизительно так, как излагал бы его дедушка, то это неприятное открытие. А дедушка обычно – не академик Лихачев, а кто-то, в кого прочно вошла вся советская пропаганда. И когда парень говорит ровно о том же и теми же самыми словами – это очень страшно. Мы видим таких ребят на экзаменах в нашу школу. И тут нужно понять – он способен повернуть свои мозги? Открыть свое сознание для другого восприятия мира? Тогда мы его возьмем. Если не способен – он не наш, он уже старый, он умер почти. Для нас самое главное – научить видеть по-другому. Нельзя дураков учить профессии. Это самое страшное, когда в вузах сразу начинают учить, как клеить видео, как выставлять диафрагму… С головой ничего не происходит, но они учатся неким профессиональным навыкам, и дальше мы получаем энное количестве идиотов, которые демонстрируют себя.
В.К.: Марина, а какой вы преподаватель?
М.Р.: Я не сахар. Я – злой полицейский (смеется). Я сложно иду на какие-то соглашения. Меня сложно залить слезами, я не реагирую на слезы. В меня можно уткнуться, но результата не будет. Я не добросердечна. Я считаю, что режиссер должен закончить фильм, и только смерть ему может помешать. А все остальное не должно мешать – даже тяжелая болезнь. Ну, если умер – так куда денешься, умер так умер (смеется). А все остальное – нет больше причин, чтобы не закончить фильм.
В.К.: Как вы себя ощущаете в контексте европейской и американской документалистики?
М.Р.: В европейском контексте мы чувствуем себя очень хорошо, сегодня студенческие работы бывают на самых крупных фестивалях, нас ждут, к нам приезжают, нас отбирают, мне пишут европейские режиссеры-документалисты, благодарят за то, что они посмотрели картину. Мы показываем на фестивалях IDFA в Амстердаме, в Лейпциге, на швейцарском фестивале Visions du Réel в Нионе. Мы не чувствуем себя изгоями или каким-то провинциальным отсеком. Что касается Америки – здесь все сложнее. В Америке есть документалисты, которые снимают в похожей стилистике, это, конечно, совсем независимое кино. Нам размещать здесь на фестивалях свои фильмы сложнее, потому что это другой мир, с другим представлением об отношениях между людьми и о том, как их надо фиксировать. И здесь мы не в таком фаворе, как в Европе.
В.К.: Что это значит – «здесь другие представления о том, как нужно фиксировать отношения»?
М.Р.: В Америке нужно непременно объяснять, что происходит на экране. Есть недоверие к визуальному ряду. В Европе и особенно в России есть недоверие к вербальному ряду. К слову – недоверие. Потому что слово врет, а изображение более объективно. В Америке к изображению обязательно подключается слово, которое еще объясняет отношения, которые происходят на экране, не доверяя зрителю, видимо, что он сам может разобраться. У нас в школе, кстати, во время учебы, запрещен закадровый текст, у нас запрещена закадровая музыка, которая не является частью сюжета. Если музыка насыщает фильм эмоциями, куда-то ведет, ставит какие-то акценты – то это запрещено, потому что студент должен понять, что такое ритмическая структура самого фильма без вмешательства музыки. Конечно, и музыка, и закадровый текст легитимны, но их нельзя давать в руки неопытным людям. Это все равно, что ножом махать. А это все средства, которые работают достаточно примитивно в традиционном документальном кино в США – закадровый текст объясняет, музыка руководит вашими эмоциями… А такая, как бы «сухая» атмосфера в наших фильмах не устраивает людей, которые здесь, в Америке, делают погоду в эстетике.
В.К.: Вы не раз говорили, что не делаете политическое кино, но при этом ваши студенты сделали фильм «Зима, уходи» про выборы в России в 2012 году. Это какое-то исключение из правила?
М.Р.: Мы не делаем политическое кино не потому, что кого-то боимся – мы независимая школа, мы не берем ни копейки у государства, и если нас захотят закрыть – нас все равно закроют. Просто мне не интересны люди, которые способны к массовому сопротивлению, т.е. если я говорю о митинге, мне митинг не интересен, но мне интересен отдельный человек, который протестует. Что касается «Зима, уходи» – студенты оказались внутри очень бурного политического времени и сами проявили к этому интерес. Нам позвонили из «Новой газеты» и спросили, не хотят ли мои ребята снять большой митинг оппозиции, который проходил 4 февраля 2012-го года. Десять человек захотели, и когда они сняли этот митинг, я поняла, что мы не можем остановиться, что это история, которая происходит на наших глазах и что мы должны довести ее до конца – до выборов Путина. Каждый был закреплен за одним, двумя героями – из оппозиции или из путинского окружения – и постоянно следовал за ними. Самое страшное было, как ни странно, не во время митингов, где иногда зверствовали люди с резиновыми дубинками – а на выборах, когда совершенно мирные граждане вырывали из рук камеры, бросали их на пол, начинали драться, пытались вырывать волосы у студентов… Там было реально страшно. Когда мы все это сняли, у нас на руках оказалось тысяча часов материала. Мы должны были этот фильм закончить до инаугурации, потому что он был очень актуальным. Надо было дать понять, что происходило до этого, потому что когда ты отъезжаешь от Москвы – очень мало кто понимает, что происходит, телевидение совершенно по-другому информирует. И дальше была очень забавная работа. Человек шесть студентов решили монтировать. Они закрылись в квартире одного мальчика, там было три спальных места и три компьютера, трое монтировали, трое спали, потом менялись местами. А я метала туда еду из магазина, чтобы они не умерли у меня. За полтора месяца они закончили фильм, за день до инаугурации, и мы его показали в Доме журналиста на закрытом показе, а потом на фестивале в Локарно, где он попал в большой конкурс вместе с игровыми фильмами.
В.К.: Сейчас в России многие считают, что Россия «встает с колен», а для других атмосфера в стране удушающая. А вот для документалиста – все равно? Ему все, что бы ни происходило, – документальный материал?
М.Р.: Да, для документалиста все является материалом. Для документалиста сейчас в России интересно – если его не бьют по башке сзади идиоты какие-то. Но мои представления о том, как будут дальше существовать мои студенты, очень пессимистичные. Потому что в этой атмосфере не может ничего развиваться – может развиваться только сопротивление. А искусство, мне кажется, не может сосредотачиваться только на сопротивлении. Это абсолютно ненормально – рождать революции. Но сегодняшняя позиция государства – это позиция людей, которые вызывают других к сопротивлению. Ситуация очень тяжелая и во многом печальная. Это же не в целом – ах, плохо жить, ах, хорошо жить. Где-то мне хорошо жить. Но само ощущение жизни очень нерадостное. Потому что ты понимаешь, что нет правил, по которым работает государство. Что ты не можешь существовать в этом сценарии, который создан не для тебя. Ты хочешь другого сценария своей жизни, но тебя вынуждают участвовать в этом сценарии, который для тебя придуман. Мир стал очень черно-белым, нет градации. А мир ведь разный, мир цветной, в нем очень много тонкостей и нюансов. Государство не любит нюансы, они осложняют его жизнь. И то, что мир перестал быть таким подробным – это ужасно. Не только для российского мира – для любого. У вас вот тоже на подходе Трамп (смеется). Но это все – пространство для документалиста.
В.К.: Вот вы занимаетесь «горизонтальной жизнью» человека, а в России общество крайне вертикальное. Вертикаль власти, все незыблемые роли – гендерные, социальные… Я знаю, что вы терпеть не можете «высокие» слова, но все же – у вас есть миссия эту вертикаль сделать более горизонтальной?
М.Р.: Да, миссия – это очень сильное для нас слово. У нас есть некий списочек слов, которые наши студенты не имеют права употреблять, и это не обсценная лексика. Еще одно такое слово, которое я «обожаю» – это духовность. Мы получаем студентов с невероятным количеством ничего не значащих слов… Что касается «миссии», мы хотим, чтобы люди задумались над тем, что не позорно иметь свое мнение. Что не позорно выработать свои позиции вне зависимости от того, какие умные люди дуют тебе в уши.Это «горизонтальное» состояние человека, где он отличается от соседа не только цветом трусов, но и неким собственным мнением, которое он сумел выработать.
Мне очень хочется, чтобы люди медленно шли к осознанию собственной жизни. И что нет ничего более ценного, чем их личная мещанская жизнь. Я за абсолютное мещанство в этом смысле: я за абажурчики, за попугайчиков, за цветок на окне. Мне кажется, что нет ничего ценнее. И нельзя говорить все время о Путине, потому что это превращается в навязчивую идею. Как с той, так и с другой стороны. В конце концов – кто этот дядя тебе? Завтра будет другой дядя – лучше, хуже, не знаю. Ну, займись собственной жизнью – может, ты там найдешь какой-то ответ, здесь ты его не найдешь точно. Вот такие вещи мне дороги. Если вы называете это «миссией» – да, тогда это моя миссия.
Источник: Русская служба «Голоса Америки», автор: Виктория Купчинецкая, публикация: 26.03.2016