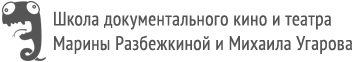Марина Разбежкина рассказала казанскому интернет-изданию о своем детстве и о том, почему не надо бояться трудностей.
Этим летом Марина Разбежкина работала над книгой о Свияжске, однако после реконструкции остров стал ей абсолютно неинтересен. В интервью «БИЗНЕС Online» известный режиссер рассказала о том, почему документалисту лучше жить в провинции, как телевидение дискредитирует их работу, и предположила, что в Год российского кино наша страна снимет еще несколько патриотических фильмов, где персонажи будут «умываться молоком».
— Марина Александровна, вы родились в Казани, каким помните город? Повлиял ли он на вас как на будущего режиссера-документалиста?
Я прожила в Соцгороде до 12 лет. Это важное для меня место, я хорошо помню свое детство, район, хотя давно там не была. Остро запомнилось, как мы любили рисковать во время игр. Например, пройти до своего этажа по ступенькам за перилами. Один раз на пятом этаже у меня ослабели руки, я повисла над пропастью, там была шахта для лифта, но самого лифта не было, это случайно увидел сосед и вытащил меня оттуда. А мой друг, ему было 10, сорвался. Я до сих пор помню, как он лежал внизу. Это сильное воспоминание, с тех пор я начала бояться высоты.
Мы часто гуляли в парке перед домом. Тогда были приняты няньки, их было очень много, они светски общались между собой, а дети — между собой. Для меня няня — это серьезная часть почти 10 лет жизни. Я сейчас поняла, что ничего о ней не знаю, кроме того, что ее звали Наташа. Она не была няней Пушкина — сказки не читала. Мы скорее участвовали в боевых акциях — например, защищали свою очередь за рисом или продуктами по талонам. Тогда продукты выдавали и на детей, если они стояли в очереди вместе со взрослыми. Нянька меня с собой брала, и когда кто-то пробовал жульничать, мы начинали наводить порядок, помню, что мы там дрались. Если мама приходила домой и не видела нас гуляющими в парке или дома, то уверенно шла в отделение милиции, где ей выдавали поцарапанных нас. Я помню, как нянька дралась — у нее были сбитые кулаки, она была профессионалом, всегда готовым к битве. Сейчас понимаю, что, видимо, она сидела. В ее облике было что-то такое. Я думаю, она сидела не по политическим делам, наверное, бытовая уголовщина. Она так дорожила мной, что я до сих пор за эту любовь благодарна, хотя в какое-то время она стала обременительной, потому что с 10-летним ребенком нельзя обращаться как с трехлетним. Тогда наши отношения охладели, и она уехала.
— Расскажите про семью, вас строго воспитывали?
Мама была инженером и очень качественным, работала в конструкторском бюро имени Туполева. Я не успела ее обо всем расспросить, потому что какое-то время дети больше интересуются собой, чем жизнью родителей, а потом наступает момент, когда уже поздно. Я помню, что мама как-то пришла с работы и гордо сказала, что она инженер первой категории, а у них все инженеры первой категории — мужчины. Я не очень понимала, в чем состояла разница между категориями, но, судя по виду мамы, это было круто. Отец тогда жил в Москве, он был крупным авиаконструктором и ученым в этой области, у него была кафедра в МАИ (Московский авиационный институт — прим. ред.). Часто приезжал в Казань, потому что имел отношение к КБ имени Туполева.
В моей семье была странная строгость. В 16 лет я спокойно ушла одна на два месяца в леса, предупредив об этом маму. Она не возражала, потому что это была та свобода, которая разрешалась. Ей казалось, что я имею право выбирать, куда ходить и как жить. Но при этом мне не разрешали плакать. Мама считала, что это слабость, которая не должна быть «опубликована». Она всегда говорила, что у людей такое количество бед, что мы не должны их заражать еще и своими. Я не думаю, что это верно по отношению к ребенку, потому что мне было тяжело. Потом, уже во взрослом состоянии, я начала легче справляться с несчастьями. Наверное, мне это не повредило, а кому-то могло, потому что ребенку свойственно эмоционально освобождаться через слезы.
Мама из когорты жестких советских людей, которые много перенесли и понимали, что чем слабее человек, тем скорее он исчезнет. Она потеряла своего первого ребенка в сталинских лагерях, была там вольнонаемной, когда всех авиационных конструкторов сослали в лагерь под Омском. Тогда мама была беременна от первого мужа и не смогла прокормить ребенка — вольнонаемные жили в том же режиме, что и заключенные.
— А для чего вы в 16 лет решили уйти в лес?
Поняла, что живу в библиотеке и не знаю, как устроена жизнь в реальности. Я тогда прочитала книги Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах». Они меня увлекли, и я поняла — хочу уйти на Керженец и посмотреть, что же там со старообрядцами, о которых писал Мельников-Печерский. Его книга была сделана как документально-художественная проза, все названия деревень были реальными. Я решила идти тем же маршрутом.
После этого я 15 лет много ходила в свободное время. Это был не туризм, он предполагает большое количество друзей, которые играют на гитаре, что я ужасно ненавидела.
— Это сильно на вас повлияло?
Я научилась разговаривать с самыми разными людьми. До этого я видела только друзей мамы или одноклассников. А тут увидела людей, которые не имели обо мне представления, а я не знала их. К тому же когда ты один, ничем и никем не защищен, вырабатываешь собственные способы защищаться — учишься, как общаться с людьми, которые для тебя могут быть опасны.
Однажды я шла по северу Вологодской области и почувствовала, что кто-то на меня постоянно смотрит. Вокруг не было и не могло быть людей. На каком-то километре я заметила, что по параллельной тропинке идет медведь, но зверей я не боялась. Злого странника и путника тоже не боялась, научилась с ними разговаривать. В Архангельской области я встречалась с беглыми, которые сидели по 10 — 15 лет за тяжкие преступления. Мы шли по тропе в лесу, было понятно, что они много лет не видели женщин, а я была юной девушкой 22 — 23 лет, но так научилась общаться, что там Шехерезада!..
Тогда я поняла, какова сила слова, насколько это серьезно. И хотя друзья все время говорили, что я должна носить с собой оружие, понимала, что с ним буду абсолютно бессильна и даже деморализована. Я не смогу быстро вытащить нож или пистолет, мне легче разговаривать. И это сработало — ни разу не подверглась насилию во время этих походов, хотя были очень острые встречи.
— А почему вам важно было видеть, простите за упрощение, «простых людей»?
Я тоже не люблю выражения «простой человек», потому что человек, который кажется простым, иногда оказывается очень сложным. Я встретилась с людьми, которые мне были незнакомы во всех смыслах — не понимала про них ничего, потому что была городской девочкой из книжной семьи, которая очень неплохо жила по тем временам. И вдруг увидела настолько другую жизнь, что была восхищена тем, как люди ее проживают.
Какое-то время я исповедовала народничество, причем это было вполне осознанно. Я читала почвенников, мне казалось, что правда за народом.
— Это было антигосударственное, анархическое народничество?
Казалось, что правда там, что надо вглядываться в людей из народа, если не знаешь ответа на какие-то вопросы. Казалось, что если обратиться к нему, то мы будем двигаться более внятным путем. Мне казалось, что люди оттуда обладают какой-то истиной, к чему надо присматриваться и прислушиваться. Как-то мне вдруг захотелось стать председателем колхоза. Наверное, потому что моя бабушка с маминой стороны была председателем колхоза и хорошо справлялась со своей работой. Когда я смотрела на людей из деревни, видела, как чудовищно существуют колхозы, то думала, что справлюсь, что у меня есть воля и понимание того, как надо работать. К счастью для сельского хозяйства, этого не случилось, потому что из этой затеи ничего хорошего бы не вышло.
Я любила писателей-деревенщиков, меня охладило последнее письмо Шукшина, когда он, человек из народа, вдруг увидел в нем невероятную бездну, в которой может происходить все что угодно, в том числе и злое, агрессивное. Это было странное юношеское увлечение, которое, к счастью, прошло, и теперь я не хожу в народ «за правдой».
— Но вы все-таки жили какое-то время в деревне?
До революции многие петербургские люди из дворянства разъехались по деревням, чтобы учить детей. Я приезжала в труднодоступную деревню в Архангельской области и видела замечательный маленький музей и старых людей, которые очень хорошо говорили и блестяще писали на русском языке. За этим стояла фигура какого-то совсем неизвестного человека, который в предреволюционные годы уехал в деревню, чтобы учить детей, и прожил там всю свою жизнь. Я решила сделать так же.
Про всю жизнь не думала, но решила, что мне нужно пройти какую-то часть этого пути. После того как закончила филологический факультет КГУ, я уехала в татарскую деревню учителем. При распределении у меня было единственное желание — чтобы рядом была река. У нас две реки — Волга и Кама, я выбрала дальнее село на низком берегу Волги. Там были школа и интернат, куда собирали детей в радиусе 20 километров. В русском 9-м классе я стала классным руководителем, а в татарских вела русский язык и литературу. Собиралась пробыть там все три года, которые были положены по распределению, но скоро узнала, что у мамы рак и она умирает, и вернулась домой, пробыв там всего два месяца.
— Почему вы решили работать дальше журналистом, а не учителем?
Я вернулась в Казань, мама умерла через полгода. В городе учителем работать мне было неинтересно. Пошла в студенческую газету «Ленинец», потом — в «Комсомолец Татарстана». Дважды поступала во ВГИК — не поступила. Тогда нельзя было работать на студии, если у тебя не было документа, что ты получил режиссерское или сценарное образование. Я была знакома со многими ребятами из Казанской студии кинохроники, устроилась туда администратором. Это было можно. Но за два года поняла, что это меня никак не приближает к режиссуре.
Я ушла на вольные хлеба, потому что не люблю коллектив, не люблю пить чай в коллективе, режим. Потом первые отделы, которые следили за твоей документированной профессиональной состоятельностью, ликвидировали, и тогда уже никого не интересовало, есть у тебя специальное образование или нет. До этого времени у меня в жизни произошло столько историй, которые я хотела бы снять, что была абсолютно готова к работе.
Как только случилась перестройка, тут же пришла на Казанскую студию кинохроники. Мы сразу стали снимать какое-то другое кино — журнал «На Волге широкой» мы превратили в экспериментальный. За год напахали много фильмов, пока все вместе в стиле времени не устроили забастовку. Мы были против директора, хотели, чтобы его уволили, потому что он был некомпетентным человеком. Уволили в результате всех забастовщиков, потому что, как выяснилось, о забастовке надо было предупреждать. Потом директор разрешил всем вернуться: ребята вернулись, а я — нет. Мне казалось, что возвращаться было бы странно.
Я тогда жила на острове Свияжске совсем без денег. Понимала, что судьба отпустила мне один год, когда я занималась делом, которое оказалось действительно моим. Телефонного сообщения тогда между Казанью и Свияжском не было — вскоре ко мне приплыли ребята из студии и сказали, что комиссия из Москвы просила меня приехать в студию. Оказалось, что директор показал им мои фильмы, которые считал ужасными. Они действительно выходили за рамки того, что снимала тогда студия. А в комиссии был Саша Павлов — тогда директор студии «Современник» в Москве. Он сказал, что хотел бы пригласить меня в свою студию, потому что ему кино очень понравилось.
— Вы в Москву ехали вслепую или у вас там были друзья, родственники?
Тогда я уезжала не насовсем, через московскую студию сняла несколько фильмов в Казани. Потом мне стало здесь тесно, и я счастлива, что у меня были силы уехать, все-таки в 50 лет, тем более в России, люди не бросают квартиры и неизвестно куда не едут.
В Москве я жила у друзей, а потом стала снимать свою квартиру. Жизнь мне не казалась сложной. Она была увлекательной. Мне вообще многие жизненные перипетии не кажутся драматичными. Если жить интересно, то и драмы кажутся незначительными, ничтожными.
Вообще, для того чтобы снимать кино, необязательно и даже лучше не жить в Москве. Провинция дает гораздо больше сюжетов и соприкосновений с жизнью. Для документалиста Москва зачастую пустая. В ней трудно получить первоначальный творческий толчок, поэтому я в школу стараюсь москвичей не принимать. Они, конечно, к нам просачиваются, но между нами всегда сложная борьба. Эти ребята очень образованные и милые, но они не имеют никакого представления о реальной жизни, приблизительно так же, как детдомовцы. Они живут в большом монастыре, каждый в своей келье, оттуда очень сложно почувствовать реальность. В провинции это удается само собой.
— Как вы стали преподавать? Кажется, что в Москве ваша карьера быстро пошла в гору.
Я начала снимать фильмы, их показали на крупных фестивалях, меня узнали в киношной среде. Я была в том возрасте, когда уже не было азарта завоевать Москву или что-то ей доказать. Сняла свой первый игровой фильм «Время жатвы» и вошла в то сообщество, которое мне было интересно. Потом меня пригласили в университет Натальи Нестеровой, я жила там рядом и решила попробовать. Я пришла туда и увидела полную аудиторию ребят, которых принимали без экзаменов, просто за то, что они могли заплатить какую-то сумму. Мальчики там отсиживали армию, но к режиссуре не имели никакого отношения. Я была очень зла и сократила эти 60 человек сначала до 10, а потом где-то до 5. Это ужасно никому не понравилось, потому что деньги ушли.
Когда через два-три месяца меня позвали в «Интерньюс», я сказала, что перейду с условием, если приведу одну свою студентку — Леру Гай Германику. Позже «Интерньюс» уничтожили, нас взяла к себе ВШЭ. Я поняла, что мне нужна своя школа, а не мастерская. Потому что я уже понимала, чему учить, какие предметы должны быть. Так мы создали Школу документального кино и театра.
— Вы много работаете со студентами, молодыми людьми. Нет ли проблемы в том, что они слепы к окружающему миру, обращены в себя?
Это вообще свойственно молодым людям. Они разбираются в себе, иногда подолгу. Наша задача — чтобы они быстрее смогли пройти этот этап. Режиссер учится разглядывать мир.
Практически только этим и отличается режиссер от обычного человека — он может увидеть то, что другой может не увидеть.
— Для этого вы даете задания, студент учится сам?
Первое задание в нашей школе «Контакт» — ты должен выйти на улицу и снять трехминутный сюжет без склеек, где должен быть зафиксирован контакт. Что это такое — решает сам студент, мы не расшифровываем. В этом контакте должна присутствовать элементарная драматургия — начало, кульминация и конец. Это очень трудное задание, студенты учатся не просто наблюдать за жизнью и фиксировать ее, они должны увидеть законченный фильм в трехминутном жизненном сюжете, иначе будет просто ютубовский ролик. Учиться в нашей школе трудно, совсем нет времени лежать, плевать в потолок и радоваться тому, какой ты крутой. Мы сбиваем спесь, которая присуща начинающим режиссерам. Мы убираем амбиции, запрещаем писать «художник» с большой буквы, даже в уме. Это делает режиссера человеком рабочим. Когда студенты начинают мечтать о красной каннской дорожке, я предлагаю купить дорожку на рынке и отправиться в дальнюю деревню, расстелить ее там на ступеньках Дворца культуры и походить.
Они очень много работают, и это единственный способ кем-то стать.
— А проблема зашоренности студентов есть?
Да, иногда приходят молодые ребята и начинают пользоваться системой образов, которая работала, допустим, в 50-е годы. Я понимаю, что они не увлечены прошлым, а просто пользуются штампами, которые наработала бытующая культура. Сама молодость не дает никаких преференций. Ты можешь быть молодым, но разговаривать старым языком, смотреть на мир как твой не самый великий умом дедушка. Это неумные мозги и неумные чувства, которые постоянно воспроизводятся. Сейчас и государство их активно воспроизводит — подхватывает старые тренды, которые созданы для небольших умов. И небольшие умы радостно вторят, потому что это опора, которую они обнаружили в зыбком для них мире.
Есть и другие, которые понимают, что современный мир требует нового языка. Именно им удается что-то снимать.
— Вы сами разработали «догму» — запреты в работе для своих студентов? Почему ввели для своих студентов стоп-слова?
Да, сама. Стоп-слова у нас — «художник», «искусство» с большой буквы. И любимое в нашей стране — «духовность». Оно бессмысленное совершенно. Люди, которые хотят духовности от кого бы то ни было, предполагают, что они-то сами духовные.
Что касается пяти правил, они возникли в результате нашей работы. Это запреты, которые делают тебя более свободным, как ни странно. Мы не разрешаем пользоваться закадровой музыкой — нет ничего хуже музыки в неумелых руках. Это манипуляция чувствами людей. Но самое главное — она лишает тебя чувства ритма. Ритм в кино важен: если ты выбрал интересного героя и если у тебя просто зашибись сюжет, но ты проиграл в ритме, то ты потерял зрителя, хоть он и не поймет, почему ему скучно. Поэтому музыку сначала лучше запретить, а потом, когда тебе подчиняется ритм, вернуть.
Закадровый текст запретили приблизительно по тем же причинам, он очень манипулятивен. Мы должны объяснить все с помощью изображения. Что касается штатива, это более сложное рассуждение. Когда ты привязан к штативу, это еще один лишний предмет в коммуникации. Когда штатива нет и маленькая камера лежит в руке, ты подстраиваешься к физиологии своего героя, вы становитесь одним телом.
Еще мы запретили зум, он обычно стоит по умолчанию на всех недорогих камерах, им можно пользоваться как набором дискретных объективов. Еще есть запрет на прямые синхроны, традиционное журналистское интервью. Когда вы задаете вопрос, герой интервью считывает журналиста и старается угодить ему. Дядя Вася расскажет вам, как он с Котовским перепрыгивал через плетни, а потом выяснится, что дядя Вася вообще родился в Отечественную войну. И еще у нас запрещена скрытая камера: человек должен знать, что его снимают.
— У вас хватает времени на свои фильмы?
Больше занимаюсь преподаванием. Иногда это раздражает, потому что думаешь: а что это они снимают, а я сижу и снимаю вместе с ними их 40 фильмов? Потом ты начинаешь думать о своей работе и понимаешь, что в голове места для нее нет.
— О чем сейчас думаете?
У меня лежит фильм о Китае, я надеюсь закончить его за те свободные полгода, когда мы выпустим курс и еще не наберем другой. У меня есть идеи, но их сложно реализовать, потому что голова забита чужими проектами. И это, конечно, педагогический ад. Замечательно, когда происходит обмен — это единственное, ради чего стоит заниматься педагогикой. Но очень часто ты в ответ ничего не получаешь.
— Вы ездили в Китай преподавать?
Я месяц провела в Чанчуне, на севере Китая. Параллельно небольшой камерой сняла кино. В Китае много киношкол. Но те китайские режиссеры, которые сегодня получают венецианские, каннские призы, совершенно незнакомы им. Это интересный способ цензуры — государство дает возможность снимать внутри страны, но не разрешает показывать фильмы на родине. Поэтому студенты не имеют представления о том, что происходит с хорошим игровым и документальным кино в своей стране.
— Год назад Госдума приняла закон о прокатных удостоверениях фильмов, вы писали эмоциональное письмо по этому поводу. За год что-либо изменилось?
Ничего.
— Этот закон повлиял на распространение фильмов ваших студентов, бюджет которых обычно небольшой?
Мы, как и прежде, берем свои фильмы и едем в другие города, показываем. Многие фестивали тайком берут кино без прокатного удостоверения. А если боятся, мы не идем навстречу, не делаем прокатное удостоверение на фильмы, снятые на свои, а не государственные деньги, потому что это безобразие и вариант цензуры. По телевизору нас иногда показывает телеканал «Культура», предупреждая, что в фильмах не должно быть мата.
— Фестивали вяло отреагировали на этот закон, не стали объединяться или возражать министерству культуры. Почему?
Это невозможно сегодня, потому что у всех есть свои интересы. Когда мы написали о том, что прокатное удостоверение — это форма цензуры, фестивали отреагировали вяло, потому что боялись лишиться государственного субсидирования. Вот «Артдокфест» был чересчур независим, его лишили денег. Многие тогда писали мне в личку, просили сменить жесткую позицию на более мягкую. Все это произошло в то время, когда на фестивали было отобрано много российских фильмов, они лишались части программы, когда мы отказались делать прокатное удостоверение. С согласия студентов — я разговаривала с каждым из них.
А невозможность объединиться в России… С другой стороны, когда я смотрю на какие-то объединения, я хочу, чтобы их не было. Но в данном случае надо было — этот закон мешает общению со зрителем, отменить его было несложно. Сейчас цензура нарастает, бороться против закона уже труднее. Наверное, он будет существовать, пока вся эта камарилья будет у власти.
— А вы не хотите вывести независимое документальное кино на большую аудиторию?
Что значит выйти на большую аудиторию? Большой аудитории нигде в мире у документального кино нет. Я очень ценю выбор человека — если он любит Донцову, пусть читает, это не делает его хуже. Если любит Пушкина, пусть читает Пушкина. Хочет человек смотреть массовое кино — ради бога, он просто не думает, что кино — это предмет для сложного диалога. Если кому-то нужен сложный диалог, он найдет, где посмотреть документальные фильмы.
Когда мы приезжаем в провинцию, там набиваются небольшие залы, мы всегда обнаруживаем людей, которым это очень интересно. Я не думаю, что если бы наше кино показывали по телевизору, то миллионная аудитория смотрела бы и не дышала. Для того чтобы смотреть это кино, нужны недюжинная подготовка и понимание, что о реальности можно рассказывать и так, а не как это делают в чудовищных телевизионных фильмах, которые называют себя документальными.
— Телевизионные документальные фильмы не дискредитируют вашу работу?
Дискредитируют, но когда ты объясняешь человеку, в чем разница, он быстро это понимает. После показов нам часто приходят письма: «Мы никогда не смотрели такого кино». Кому надо, тот всегда найдет, а для тех, кто не видел, мы можем привезти. Надо только созреть, чтобы не отвернуться. Однажды сибиряки устроили поездку с документальными фильмами молодых кинематографистов по сибирским крошечным городкам. Школьникам было интересно, а учителям — нет. У них были традиционные представления о документальном кино, они точно знали, как надо. А дети, к счастью, не знали.
— А зачем зрителю это документальное кино, чтобы посмотреть на реальность как есть?
Все-таки это не отражение реальности, а видение реальности режиссером. Мы показываем зрителям другой мир, который они раньше не принимали и теперь с нашей помощью находят его близким. Люди, которые их раздражали, вдруг оказываются не такими ужасными и противными, с ними можно начать разговаривать. Зритель вдруг открывает мир, который существует за стенкой, — это путешествие ограничено для него не географическими преградами, а психологическими, социальными надстройками. У каждого есть стена, которая отделяет его от других. Документальное кино уничтожает ее.
— Следующий год объявили Годом российского кино…
Будут выпускать патриотическое кино о прекрасной России, где люди умываются молоком. Ничего хорошего не будет: год книги, кинематографа — это все сдутый шарик. Будет вся эта чушь, которая, к сожалению, как ржа, врастает и в молодых людей.
— Казань после вашего отъезда отсюда сильно изменилась. Вам интересна новая версия города?
Пусть никто не обижается, но Казань осталась для меня местом, в котором сложно сделать что-то новое. То, что происходит в Казани архитектурно, мне кажется убийством города. Там есть чудовищные образцы — а это важно, что видит человек, который идет по городу. Считает ли он, что Дворец земледельцев похож на Екатерининский дворец в Петербурге, или понимает разницу? Это не как в детстве — пройти мимо сказать «Ой, красиво!». Лучше бы построили нечто современное, дали возможность поработать архитекторам, а не удовлетворяли свои деревенские амбиции. Поэтому я не хочу возвращаться в Казань.
— Ваше детство связано со Свияжском, после реконструкции он вам тоже неинтересен?
Я когда-то очень любила Свияжск, но то, что с ним сделали в последние годы… Нельзя все живое превращать в музейное пространство. Остров был живым, сейчас он мертвый. Можно пробежать с экскурсией мимо — и все. Музей там прекрасный, монастыри стоят… Но какое сознание надо иметь, чтобы утрамбовать пространство в полтора квадратных километра бетонными плитами, залить асфальтом и поставить везде псевдоисторические фонари? Это бездна безвкусицы в уникальном месте, где жизнь еще недавно была. Сейчас там только муляжи.
— Тем не менее прошлым летом вы занимались книгой о Свияжске. Когда ее можно будет увидеть?
Мы делали книгу о Свияжске вместе с Рашидом Сафиуллиным, прекрасным художником. Когда-то я собирала голоса людей, которые там живут. Своеобразная антропология одного маленького острова. Рашид тоже долго жил в Свияжске, он и до сих пор там… Он делал рисунки, мы собирали фотографии, Сергей Литовец, с которым мы делали кино, снял блестящую серию в сумасшедшем доме, который когда-то был в Свияжске. В книге — вся информация до 1990-х годов, собранная примерно за 20 лет. Она получилась достаточно любопытной. В макете книга готова, надо ее просто напечатать. Но так как деньги теперь имеют другую ценность, когда это случится, пока непонятно.
Автор интервью Ильнур Шарафиев.
«БИЗНЕС Online», Марина Разбежкина: «Казань осталась для меня местом, в котором сложно сделать что-то новое», 29 ноября 2015 года.
Фотография: Docudays UA
Читайте также:
- Марина Разбежкина: «В Казани не знают, что такое документальное кино»
- Марина Разбежкина: «Как только люди начнут понимать, что надо печь хорошие эчпочмаки, и ситуация с современным искусством станет лучше»